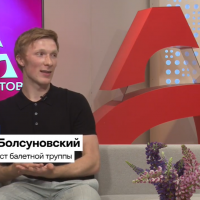Спектакль, созданный к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, предлагает современный взгляд на события самого страшного противостояния ХХ века. Он вдохновлен произведениями Виктора Астафьева, в частности романом «Прокляты и убиты», ведь никто не изображал трагедию войны так мощно и правдиво. Сюжет, связанный с блокадой Ленинграда, эпически обобщен темой самопожертвования, свойственной русскому народу во все времена и одновременно актуализирован темой памяти, вызывающей живой отклик у людей нашего времени.
В постановке режиссера Сергея Боброва Lamento / «Плач» обретает форму мистерии, символического ритуала, в котором, как в церковной литургии, «прошлое», «настоящее» и «будущее» собраны воедино «как уже бывшее, но вечно длящееся».
Первой частью «вневременного воспоминания» становится метафора «жертвенной русской героики» под Requiem Алексея Сюмака. В канонические фрагменты заупокойной мессы – DIES IRAE/ДЕНЬ ГНЕВА, CONFITEOR/ИСПОВЕДЬ вписана мелодия народной песни «Черный ворон». А в эпизоде REX TREMENDAЕ/ВЕЛИЧЕСТВЕННЫЙ ЦАРЬ канва латинского текста «прошита» оглушительными репликами фашистских лидеров и их жертв на разных европейских языках. Тем временем в центре сценической гравитации – War-вара Коса. Что это – образ России или самой Смерти – решать зрителям.
Вторая часть на музыку легендарной «Ленинградской симфонии» Шостаковича разворачивается подобием «блокадного репортажа». Под зрелище газетных вырезок, застилающих горизонт мессершмиттов и портрета генералиссимуса квартет энкаведешников загоняет тыловое юношество в боевые батальоны. Тихим комментарием трагедии звучит голосок Тани Савичевой, читающей скорбные выдержки своего «Дневника».
В эпилоге души погибших покидают телесные оболочки, обретая потустороннюю общность под звуки Lacrimosа и Amen, незавершенной финальной части «Реквиема» Моцарта. С неба летят цветы, похожие на окровавленные хлопья снега. В тишине раздается звук метронома. Это – минута молчания. Но это и знак неостановимости времени…
Несколько цитат из лекций философа Мераба Мамардашвили (1930-1990), которые помогут понять ритуал плача и смысл мистерии:
***
Предметы появляются и исчезают, раскаяние растворяется, – я не могу постоянно оставаться в состоянии раскаяния в силу порога моей чувствительности и по способам ее организации (нельзя быть вечно взволнованным). Об этом говорил Пифагор, и это потом прекрасно понимали, как ни странно, не философы, а творцы театра. Их понимание состояло в следующем: надо так построить машину театра, чтобы из случившегося раз и навсегда извлечь смысл и не повторять того, из-за чего необходимо испытывать какие-то состояния, поскольку удержать их по законам человеческой чувствительности невозможно. Что-то перестает нас раздражать, потому что чувства притупляются, и если что-то зависит от притупляемости чувств, то это «что-то» рассеивается и исчезает. Пифагор именно эту проблему пытался разрешить – как удержать это что-то.
***
Миф, сочетаемый с ритуалом, есть не просто некоторое представление, правильное или неправильное, о мире, но имеет, к тому же, конструктивную, человекообразующую сторону: нечто такое, через что в человеке становится «что-то», чего не было бы, если бы не проходило через некую машину, пока называемую нами мифом или ритуалом. Приведу простой пример. Традиционная архаическая ситуация: ритуал оплакивания умершего. Казалось бы, нелепая <…> вещь. Я сталкивался с ней еще молодым, в отдаленной от цивилизации грузинской горной деревне, когда присутствовал на похоронах и слушал ритуальное пение. <…> Это очень интенсивное пение, близкое к инсценировке, своего рода мистерия. Слово «мистерия» я употребляю не случайно.
В греческой культуре были так называемые Элевсинские мистерии, которые вовлекали массу людей в определенный строго организованный танец с пением, в определенное состояние, индуцируемое коллективным действием. Короче, такого рода оплакивания, как грузинское, являются, несомненно, архаическими остатками более сложных и более расчлененных, развитых мистерий, когда интенсивно разыгрываются выражения горя. И все это выполняется профессионалами, которые явно не испытывают тех же состояний, что испытывают родственники умершего, из-за чего мне это казалось ритуализированным лицемерием. Но одно было бесспорно: сильное массовое воздействие на чувствительность переводит человека, являющегося свидетелем или участником такого ритуала, в какое-то особое состояние.
***
Поставьте простой психический эксперимент: мы знаем, что в силу порогов нашей чувствительности, в силу времени невозможно находиться в одном и том же состоянии, скажем, в состоянии радостного возбуждения, умственного сосредоточения, гнева, радости, привязанности. Само по себе любое такое состояние подвержено хаосу. И то же самое происходит с памятью об умершем: предоставленное самому себе переживание горя развеивается по ветру, не имеет внутри себя как психическое состояние причин дления, причин для человеческой преемственности, сохранения традиции, называемой обычно уважением к предкам. То есть, фактически мы получаем следующую мысль: забыть – естественно (так же как животные забывают свои прошлые состояния), а помнить – искусственно. Ибо оказывается, что эта машина, например ритуальный плач, как раз и интенсифицирует наше состояние, причем совершенно формально, когда сам плач разыгрывается как по нотам и состоит из технических деталей. Я могу назвать это формальной стороной в том смысле, что она никакого непосредственного отношения к содержанию не имеет. Дело не в содержании чувства горя, а в том, чтобы разыграть горе четко сцепленными техническими и практическими элементами действия. И они, действуя на человеческое существо, собственно, и переводят, интенсифицируя, обычное состояние в другой: режим жизни и бытия. Именно в тот режим, в котором уже есть память, есть преемственность, есть длительность во времени, не подверженные отклонениям и распаду. Мы помним, мы любим, мы привязаны, имеем совесть – это чисто человеческие состояния.
***
Мы можем перечислить все содержания души, как картофелины в мешке, а вот некий строй, интонацию души мы ее можем перечислить. Это что-то явно избыточное, непрактичное, не служащее только тому, чтобы удовлетворять, потребности: убить мамонта и съесть его мясо или поплакать… Ведь ритуальный плач не разжалобить нас хочет, он создает в нас структуру памяти. <…> Это особая и практическая реальность – реальность ритуала, реальность мистерии, какие-то конкретные, но умные вещи, или бытие (более умное, чем мы), которое нас к себе приобщает, потому что оно нам адресовано. Оно ритуально воздействует на меня, и я должен как бы перескочить посредством участия, скажем, в ритуальном плаче из своей обыденной жизни в какую-то другую.
Как музыка Lamento выходит из-под диктата «авторства»
Звуковой ряд Lamento / «Плач» собран наподобие конструктора из произведений разного времени, разной жанровой специфики и, казалось бы, несоотносимых, авторов. Прием в современном музыкальном театре и на академической сцене довольно растространенный, достаточно вспомнить пермскую «Королеву индейцев» Перселла, где дошедшие до нас остатки музыки прослаивают фрагменты других сочинений того же автора, или «Реквием памяти Жоскена Депре», к древнему автору которого Жаку Ришафору (XIII в) пристроен ряд из пяти современных отечественных и европейских композиторов.
Москвич и наш современник Алексей Сюмак перенес в Lamento / «Плач» фрагменты своего симфонического перформанса Requiem, впервые представленного на сцене МХТ в мае 2010 года «К 65-летию Победы в Великой Отечественной войне» (режиссер – Кирилл Серебренников). В сочинении, как и полагается современному композитору, он использовал разные приемы – от сонористики до акварельной хоровой полифонии, придав им камерный, а не эпический формат, акцентированный нетрадиционным вокалом солистки (Наталья Пшеничникова) и солиста (Борис Филановский). Для красноярского спектакля из первоначального музыкального текста он отобрал меньше половины материала, порядком переработанного (в технике звукового коллажа), переинтонированного (мелодией народной песни «Черный ворон») и совмещенного с эпизодами для чтецов и «радиомонтажами». Мистериальный характер постановки послужил условием, в силу которого современный авторский слог намеренно соскальзывает в анонимность симфо-хорового комментария, придающего музыке нечто общее со структурой античных трагедий.
Ну а «Ленинградская симфония» Шостаковича предстает в данной постановке «репортажным включением» времен блокадной реальности. Как тут не вспомнить легендарную трансляцию ее премьеры из Ленинградского Дома Радио? Как раз благодаря моментальной узнаваемости этой музыки нашей «культурной памятью» партитура Шостаковича легко ложится на хореографический и литературный тексты постановки подобно саундтреку – на кадры фильма. Такое перемасштабирование, помимо прочего, позволяет оценить неоскудевающий запас документальности в шедевре Шостаковича, ныне воспринимаемым не только монументом своего времени, но и частью глобальной звуковой летописи страны.
Lacrimosa из Реквиема Моцарта в эпилоге подытоживает нетривиальный альянс современного композитора с советским классиком, ретроспективно скрывая их авторские траектории за далекими горизонтами «вечных слез» и вечных плачей, вместе с которыми к нам сегодняшним приходит катарсис.
Подборку цитат подготовила Елена Черемных.